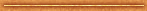«Тысяча девятьсот сорок первый год для меня и моих ровесников начался безоблачно. Мы, недавние десятиклассники, простившись со школой, как говорится, вышли в люди, на самостоятельную дорогу. Мы завели длинные и широкие, по моде, брюки, солидно, баском бросали в парикмахерских: "Побриться"- и не особенно задумывались над какими-либо жизненными проблемами.
Мы считали, что Красная Армия всех сильней, и если кто-нибудь посмеет сунуть "своё свиное рыло в наш советский огород", то будет бит "малой кровью и могучим ударом". Мы пели "Если завтра война, если завтра в поход", нимало не представляя себе, а что будет, если завтра действительно война.) Мы пели потому, что песни были бодрые, правильные и соответствовали нашему настроению. И, конечно, каждый из нас в то же время в меру сил и материальных возможностей двигался избранной дорогой в инженеры, врачи, агрономы.
Майские и июньские дни 1941 года в Ленинграде были тёплыми и светлыми. По неписанной традиции наша студенческая братва запросто лишала себя сна и, несмотря на сессию, трудные экзамены, бодрствовала белыми ночами в ленинградских парках и скверах.
Воскресный день 22 июня тоже был тёплым, солнечным, и я долго не мог поверить в ошеломляющую новость: "Война!", не сразу понял страшный смысл этого звучавшего по-новому - совсем не так, как в песнях, - слова. Война! Надо было что-то делать, куда-то бежать, кому-то помогать. Но я не знал, что делать и куда бежать.
На улицах было оживлённее, чем всегда. Двигались воинские подразделения. Спешили прохожие, серьёзные, озабоченные. Лица постовых милиционеров были каменными и чуть-чуть растерянными. В трамвае мы тоже не видели улыбок.
И вот только тут, глядя на притихших и хмурых пассажиров, я вдруг понял, что все мои обычные дела и заботы с этого утра летят к чёртовой бабушке и начинается нечто новое и интересное.
Во дворе и коридорах военкомата было без пяти минут столпотворение - шла мобилизация. Толкаясь по кабинетам, мы встретили много своих сверстников, явившихся сюда с той же целью, — прорваться на фронт. Объединёнными силами нам, в конце концов, удалось пробиться в комнату, где сидел за столом немолодой и какой-то взъерошенный военный с двумя шпалами на петлицах.»